Герберт Клайд Льюис и история спасения книги «За бортом»
Брэд Бигелоу
«Выслушайте меня! Пожалуйста, кто-нибудь!» — кричит Генри Престон Стэндиш, герой повести Герберта Клайда Льюиса «За бортом», отчаянно пытаясь удержаться на поверхности океана, обессилев и потеряв надежду на спасение. «Но, конечно, никто его не слышал, и отсутствие публики казалось Стэндишу самой злой шуткой». Льюис умер от сердечного приступа в сорок один год — без гроша, без работы, в одиночестве посреди Нью-Йорка. На волне антибольшевистской кампании его внесли в голливудские черные списки; три его романа давно не переиздавались. Писатель, потерявший свою аудиторию. Его некому было спасать.
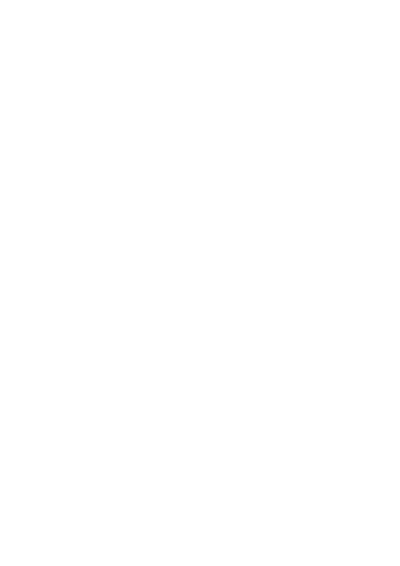
Герберт Клайд Льюис в возрасте около двадцати лет
Но пока слова писателя живы, есть шанс, что его произведение будет спасено. Понадобилось более семидесяти лет, чтобы кто-то заметил повесть, затерявшуюся в океане забытых книг. Спасатели пришли со всего мира: из Аргентины, Израиля, Нидерландов, из Англии и США. История Льюиса о человеке, который умирает в одиночестве и забвении, теперь снова открывается читателям, которые видят в этой тонкой и грустной комедии отклик на общее чувство потерянности.
Льюис родился в Бруклине в 1909 году; он был вторым ребенком в семье еврейских иммигрантов из России. Его мать Клара приехала в Америку с семьей в 1887 году, когда ей было всего два года, а отец Хайман — годом позже, в тринадцать лет, как портной-подмастерье. К моменту рождения Герберта Льюисы уже жили в Браунсвилле, районе около Томпкинс-авеню и Лафайет-авеню, который тогда был сердцем крупнейшей еврейской общины за пределами Европы — первым пристанищем для десятков тысяч иммигрантов из России и Восточной Европы. С 1890 по 1915 год численность еврейского населения Нью-Йорка выросла с менее чем ста тысяч до почти миллиона. Чтобы сыновьям было проще адаптироваться к американской жизни, Хайман сменил фамилию Лурия на Льюис и дал детям английские имена: Альфред Джозеф, Герберт Клайд и Бенджамин Джордж.
Для Герберта Клайда Льюиса Браунсвилл был воплощением американского «плавильного котла» — по крайней мере, с высоты прожитых лет. В 1943 году он написал для The Los Angeles Times статью «Домой», рассказывая о том, как впервые за двадцать лет вернулся на улицы своего детства. «Я медленно обходил квартал, и воспоминания нахлынули на меня, — писал он. — Мне показалось, что мой старый район — величайшее чудо, когда-либо случавшееся на земле. Люди со всех уголков Европы, Ближнего Востока и Китая жили здесь бок о бок и не резали друг другу глотки». По его мнению, здесь в самом воздухе было что-то такое, «что наводило нас на мысль: может быть, взгляды и происхождение другого человека тоже имеют право на существование».
Льюис родился в Бруклине в 1909 году; он был вторым ребенком в семье еврейских иммигрантов из России. Его мать Клара приехала в Америку с семьей в 1887 году, когда ей было всего два года, а отец Хайман — годом позже, в тринадцать лет, как портной-подмастерье. К моменту рождения Герберта Льюисы уже жили в Браунсвилле, районе около Томпкинс-авеню и Лафайет-авеню, который тогда был сердцем крупнейшей еврейской общины за пределами Европы — первым пристанищем для десятков тысяч иммигрантов из России и Восточной Европы. С 1890 по 1915 год численность еврейского населения Нью-Йорка выросла с менее чем ста тысяч до почти миллиона. Чтобы сыновьям было проще адаптироваться к американской жизни, Хайман сменил фамилию Лурия на Льюис и дал детям английские имена: Альфред Джозеф, Герберт Клайд и Бенджамин Джордж.
Для Герберта Клайда Льюиса Браунсвилл был воплощением американского «плавильного котла» — по крайней мере, с высоты прожитых лет. В 1943 году он написал для The Los Angeles Times статью «Домой», рассказывая о том, как впервые за двадцать лет вернулся на улицы своего детства. «Я медленно обходил квартал, и воспоминания нахлынули на меня, — писал он. — Мне показалось, что мой старый район — величайшее чудо, когда-либо случавшееся на земле. Люди со всех уголков Европы, Ближнего Востока и Китая жили здесь бок о бок и не резали друг другу глотки». По его мнению, здесь в самом воздухе было что-то такое, «что наводило нас на мысль: может быть, взгляды и происхождение другого человека тоже имеют право на существование».
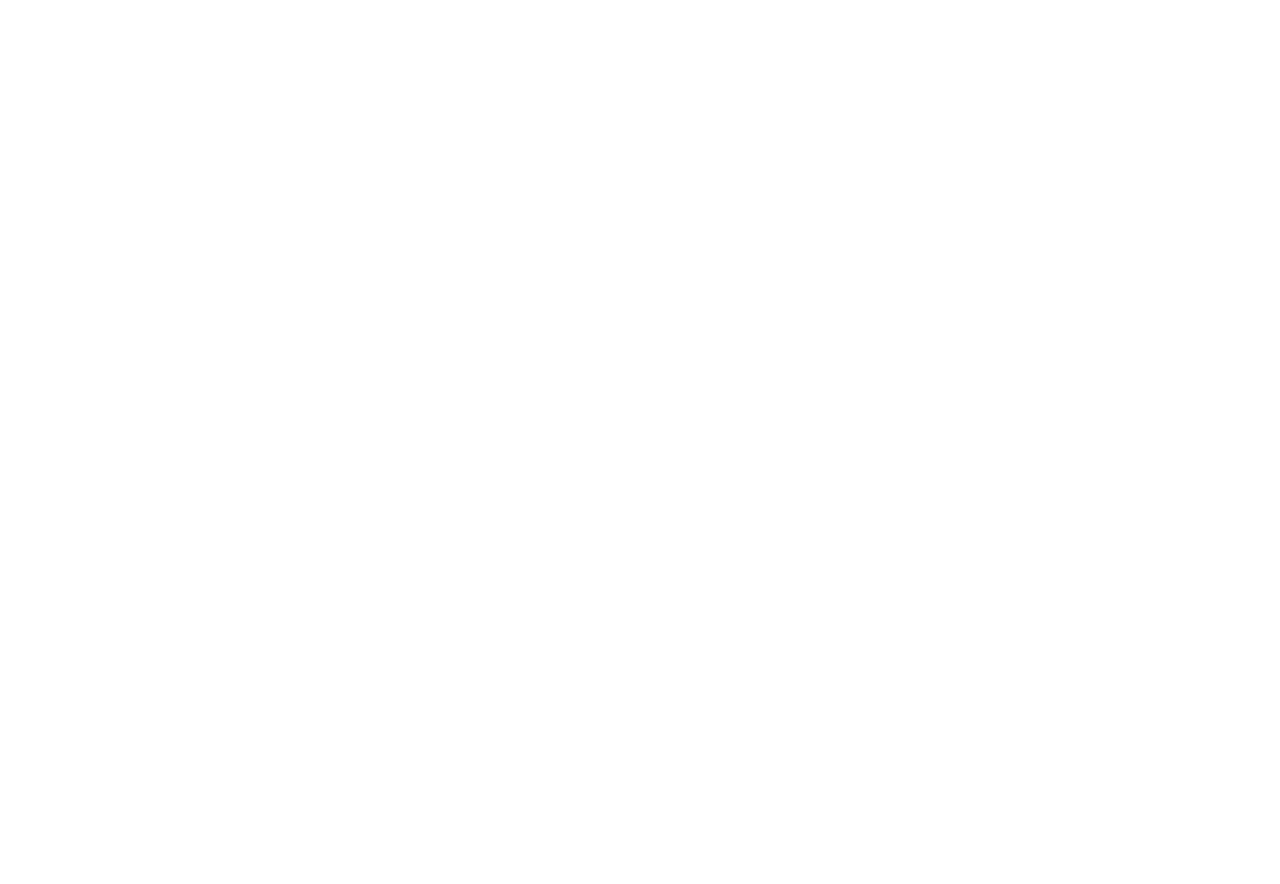
Семья иммигрантов прибывает на остров Эллис, Нью-Йорк. Начало XX века
Как бы то ни было, Льюис рано ушел из дома и с тех пор постоянно переезжал. В шестнадцать лет он бросил школу, работал в местных газетах, недолго учился в Нью-Йоркском университете и Городском колледже Нью-Йорка (ни одно заведение ему не подошло), а зиму 1929−1930 годов провел в Париже. В марте 1930 года он вернулся в Америку, стал спортивным журналистом в Ньюарке, штат Нью-Джерси, а затем пересек почти полмира, перебравшись в Шанхай, где два года работал репортером в газетах The China Press и The Shanghai Evening Post.
Вероятно, жизнь в Китае поначалу утолила его жажду странствий. В начале 1933 года Льюис вернулся в Нью-Йорк, устроился в газету The New York World Telegram, затем перешел в The New York Journal American, женился и снял квартиру на Манхэттене — редкий случай, когда он жил по одному адресу дольше года. Китайский опыт лег в основу его первых рассказов: коротких, но насыщенных действием. Так, «Тибетский образ» рассказывает об авантюристах, которым после нападения стаи собак-людоедов пришлось бросить в пустыне Гоби шкурки чернобурой лисицы стоимостью в миллион долларов. Рассказ вышел в журнале Argosy в ноябре 1935 года, а за ним последовали другие, полные стереотипных образов загадочных китайцев.
Льюис также попробовал себя в театре. Вместе с бывшим репортером Луисом Вайтценкорном он написал пьесу «Выбери свой яд»: группа мелких преступников оформляет страховку на бездомного и пытается убить его в серии «несчастных случаев». Премьера состоялась в конце января 1936 года, но после шести показов спектакль был снят с репертуара. «Пьесе нужны были доработки», — лаконично объяснил продюсер и вскоре отказался от постановки.
Хотя Льюис уверял, что доволен работой в Journal American, ему явно не сиделось на месте. В интервью Newsweek он вспоминал, что идея первой книги «За бортом» пришла к нему, когда однажды вечером в конце 1936 года он стоял на крыше своей квартиры в Гринвич-Виллидж. Льюис смотрел вниз на улицу и размышлял, что произойдет, если он спрыгнет: «Как человек преодолевает эту головокружительную пропасть между безопасностью под ногами и миром внизу?» Чтобы это выяснить, он решил написать книгу. И чтобы усилить эффект, главным героем сделал не странствующего репортера вроде себя самого, а человека, воплощающего уверенность и стабильность.
Генри Престон Стэндиш, главный герой повести «За бортом», настолько прочно встроен в американский истеблишмент, насколько это вообще возможно. Его фамилия напоминает об английском офицере, который отправился в Америку вместе с первыми пилигримами на корабле «Мэйфлауэр» — герое стихотворения Генри Уодсворта Лонгфелло «Сватовство Майлза Стэндиша», которое заучивали целые поколения американских школьников. Выпускник Йеля, партнер инвестиционного банка на Уолл-стрит, член финансового клуба, атлетического клуба и гольф-клуба, владелец уютной квартиры на Верхнем Вест-Сайде, верный муж и любящий отец двоих детей — Стэндиш был воплощением добропорядочного гражданина. «Пил умеренно, курил умеренно, занимался любовью с женой умеренно; собственно, Стэндиш был одним из самых скучных людей на свете». Размышляя о том, каким будет мир без него, он с сожалением представляет, что «Нью-Йорк испещрят пустоты, которые не заполнить никому, кроме настоящего Генри Престона Стэндиша».
Вероятно, жизнь в Китае поначалу утолила его жажду странствий. В начале 1933 года Льюис вернулся в Нью-Йорк, устроился в газету The New York World Telegram, затем перешел в The New York Journal American, женился и снял квартиру на Манхэттене — редкий случай, когда он жил по одному адресу дольше года. Китайский опыт лег в основу его первых рассказов: коротких, но насыщенных действием. Так, «Тибетский образ» рассказывает об авантюристах, которым после нападения стаи собак-людоедов пришлось бросить в пустыне Гоби шкурки чернобурой лисицы стоимостью в миллион долларов. Рассказ вышел в журнале Argosy в ноябре 1935 года, а за ним последовали другие, полные стереотипных образов загадочных китайцев.
Льюис также попробовал себя в театре. Вместе с бывшим репортером Луисом Вайтценкорном он написал пьесу «Выбери свой яд»: группа мелких преступников оформляет страховку на бездомного и пытается убить его в серии «несчастных случаев». Премьера состоялась в конце января 1936 года, но после шести показов спектакль был снят с репертуара. «Пьесе нужны были доработки», — лаконично объяснил продюсер и вскоре отказался от постановки.
Хотя Льюис уверял, что доволен работой в Journal American, ему явно не сиделось на месте. В интервью Newsweek он вспоминал, что идея первой книги «За бортом» пришла к нему, когда однажды вечером в конце 1936 года он стоял на крыше своей квартиры в Гринвич-Виллидж. Льюис смотрел вниз на улицу и размышлял, что произойдет, если он спрыгнет: «Как человек преодолевает эту головокружительную пропасть между безопасностью под ногами и миром внизу?» Чтобы это выяснить, он решил написать книгу. И чтобы усилить эффект, главным героем сделал не странствующего репортера вроде себя самого, а человека, воплощающего уверенность и стабильность.
Генри Престон Стэндиш, главный герой повести «За бортом», настолько прочно встроен в американский истеблишмент, насколько это вообще возможно. Его фамилия напоминает об английском офицере, который отправился в Америку вместе с первыми пилигримами на корабле «Мэйфлауэр» — герое стихотворения Генри Уодсворта Лонгфелло «Сватовство Майлза Стэндиша», которое заучивали целые поколения американских школьников. Выпускник Йеля, партнер инвестиционного банка на Уолл-стрит, член финансового клуба, атлетического клуба и гольф-клуба, владелец уютной квартиры на Верхнем Вест-Сайде, верный муж и любящий отец двоих детей — Стэндиш был воплощением добропорядочного гражданина. «Пил умеренно, курил умеренно, занимался любовью с женой умеренно; собственно, Стэндиш был одним из самых скучных людей на свете». Размышляя о том, каким будет мир без него, он с сожалением представляет, что «Нью-Йорк испещрят пустоты, которые не заполнить никому, кроме настоящего Генри Престона Стэндиша».
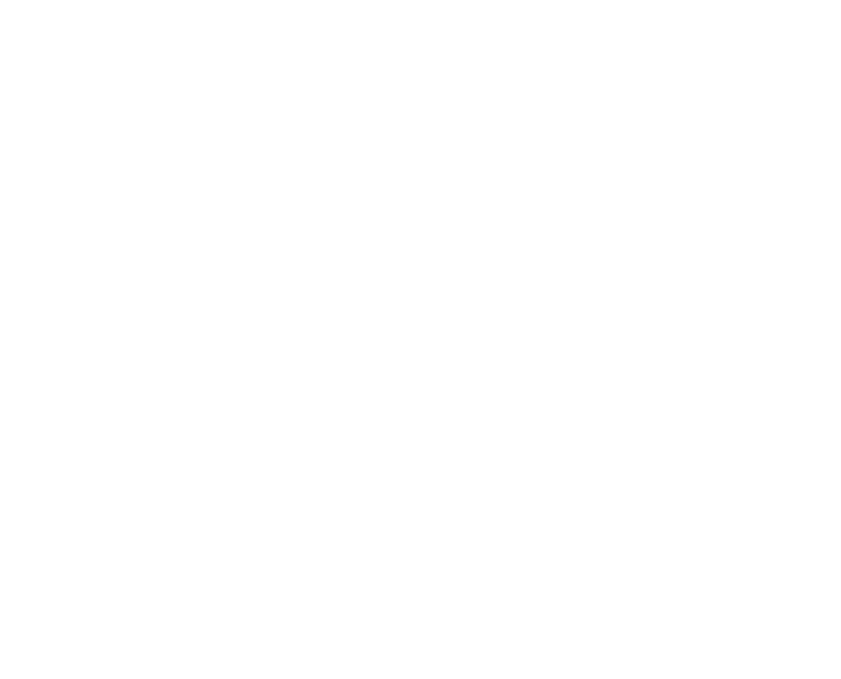
Улица в Гринвич-Виллидж, Нью-Йорк, 1930-е годы
И все же Стэндиша, как и Льюиса, тянет куда-то прочь — искать то, чего ему упорно не хватало дома. Однажды в офисе на него накатывает смутное беспокойство. Ему хочется встать, выйти и пройтись вдоль воды в Бэттери-парке. И там, глядя на залив, он чувствует, как «силы вне его власти тормошили его за плечи, цедя шепотом сквозь сжатые зубы: „Тебе надо убираться отсюда, спасаться!“»
Стэндиш не понимает, что с ним. «Не было ни одной уважительной причины убираться отсюда: в его жизни все находилось на своем месте». В то же время его инстинкты говорят ему, что он «больше никогда не сможет дышать полной грудью, если не окажется как можно дальше отсюда». Стэндиш — не первый герой американской литературы, которого тянет сбежать. За полвека до написания «За бортом» Гекльберри Финн у Марка Твена удирает на Индейскую территорию: «потому что тетя Салли собирается усыновить меня и цивилизовать — а я этого не выношу». Может быть, «безопасность», о которой писал Льюис, и была той самой «цивилизацией», от которой бежал Гек.
Но когда Стэндиш с борта круизного лайнера видит, как силуэт Нью-Йорка исчезает за горизонтом, ему кажется, что «вся его усталость, все сомнения и страхи чудом растворились в море». В Калифорнии это чувство освобождения только крепнет. Стэндиш ощущает, что «теперь все приобрело особый вкус, какого он не испытывал дома». Он решает продолжить путешествие — отправиться в еще один круиз, на этот раз в Гонолулу. «Почему, Генри?» — спрашивает жена, когда он звонит, чтобы сообщить новость. «Не знаю», — отвечает он. Даже оказавшись на Гавайях, он тянет с возвращением и меняет билет в Сан-Франциско на место на «Арабелле», грузовом судне, совершающем неторопливый трехнедельный рейс из Гонолулу в Панаму.
И вот Льюис запускает свой эксперимент. Рано утром, когда почти все на корабле еще спят, а до Панамы остается не меньше десяти суток пути, Стэндиш поскальзывается на масляном пятне во время прогулки по палубе — и падает за борт. Льюис отправляет своего героя настолько далеко от нью-йоркского комфорта, насколько вообще возможно: две тысячи миль до Панамы, три тысячи — до Гавайев; редкий маршрут, по которому почти не ходят корабли. И даже здесь его настигают условности. Выплыв на поверхность, когда еще есть шанс, что его услышат на «Арабелле», Стэндиш понимает, что обречен своим воспитанием: «Стэндиши не вопят; за три поколения этикета труба в его гортани сменилась на сладкозвучную виолончель». Он медлит — и не зовет на помощь. «Арабелла» уходит, а команда и пассажиры даже не замечают пропажи. Лишь спустя двенадцать часов они понимают, что он исчез — и, по жестокой иронии, предвосхищающей и судьбу самого Льюиса, кое-кто на борту решает, что Стэндиш не свалился за борт случайно, а покончил с собой.
Льюис с ледяной точностью снимает с героя слой за слоем всю его «цивилизованность», пока часы тянутся, а Стэндиш пытается удержаться на воде, надеясь на спасение. Он скидывает ботинки, потом — постепенно — всю одежду, пока не остается нагим, с обожженными солнцем глазами и губами. Сначала ему стыдно, что «Арабелле» придется ради него развернуться; потом он даже испытывает гордость, что пережил «настоящее приключение»; и наконец, когда становится ясно, что спасения не будет, приходит сожаление. «И с каждой мыслью его расколотое сердце вздрагивало от боли — боли сожаления, что ему, в отличие от других людей, уже не дано переживать новые необыкновенные события день за днем». Необыкновенным было то, что «его сердце билось все тридцать пять лет, без единой остановки и жалобы на свой неблагодарный и бесконечный труд»; как и то, что он никогда не знал голода; как и то, что всегда получал желаемое. И в конце остается лишь одно желание, которому не суждено сбыться: выжить.
Стэндиш не понимает, что с ним. «Не было ни одной уважительной причины убираться отсюда: в его жизни все находилось на своем месте». В то же время его инстинкты говорят ему, что он «больше никогда не сможет дышать полной грудью, если не окажется как можно дальше отсюда». Стэндиш — не первый герой американской литературы, которого тянет сбежать. За полвека до написания «За бортом» Гекльберри Финн у Марка Твена удирает на Индейскую территорию: «потому что тетя Салли собирается усыновить меня и цивилизовать — а я этого не выношу». Может быть, «безопасность», о которой писал Льюис, и была той самой «цивилизацией», от которой бежал Гек.
Но когда Стэндиш с борта круизного лайнера видит, как силуэт Нью-Йорка исчезает за горизонтом, ему кажется, что «вся его усталость, все сомнения и страхи чудом растворились в море». В Калифорнии это чувство освобождения только крепнет. Стэндиш ощущает, что «теперь все приобрело особый вкус, какого он не испытывал дома». Он решает продолжить путешествие — отправиться в еще один круиз, на этот раз в Гонолулу. «Почему, Генри?» — спрашивает жена, когда он звонит, чтобы сообщить новость. «Не знаю», — отвечает он. Даже оказавшись на Гавайях, он тянет с возвращением и меняет билет в Сан-Франциско на место на «Арабелле», грузовом судне, совершающем неторопливый трехнедельный рейс из Гонолулу в Панаму.
И вот Льюис запускает свой эксперимент. Рано утром, когда почти все на корабле еще спят, а до Панамы остается не меньше десяти суток пути, Стэндиш поскальзывается на масляном пятне во время прогулки по палубе — и падает за борт. Льюис отправляет своего героя настолько далеко от нью-йоркского комфорта, насколько вообще возможно: две тысячи миль до Панамы, три тысячи — до Гавайев; редкий маршрут, по которому почти не ходят корабли. И даже здесь его настигают условности. Выплыв на поверхность, когда еще есть шанс, что его услышат на «Арабелле», Стэндиш понимает, что обречен своим воспитанием: «Стэндиши не вопят; за три поколения этикета труба в его гортани сменилась на сладкозвучную виолончель». Он медлит — и не зовет на помощь. «Арабелла» уходит, а команда и пассажиры даже не замечают пропажи. Лишь спустя двенадцать часов они понимают, что он исчез — и, по жестокой иронии, предвосхищающей и судьбу самого Льюиса, кое-кто на борту решает, что Стэндиш не свалился за борт случайно, а покончил с собой.
Льюис с ледяной точностью снимает с героя слой за слоем всю его «цивилизованность», пока часы тянутся, а Стэндиш пытается удержаться на воде, надеясь на спасение. Он скидывает ботинки, потом — постепенно — всю одежду, пока не остается нагим, с обожженными солнцем глазами и губами. Сначала ему стыдно, что «Арабелле» придется ради него развернуться; потом он даже испытывает гордость, что пережил «настоящее приключение»; и наконец, когда становится ясно, что спасения не будет, приходит сожаление. «И с каждой мыслью его расколотое сердце вздрагивало от боли — боли сожаления, что ему, в отличие от других людей, уже не дано переживать новые необыкновенные события день за днем». Необыкновенным было то, что «его сердце билось все тридцать пять лет, без единой остановки и жалобы на свой неблагодарный и бесконечный труд»; как и то, что он никогда не знал голода; как и то, что всегда получал желаемое. И в конце остается лишь одно желание, которому не суждено сбыться: выжить.
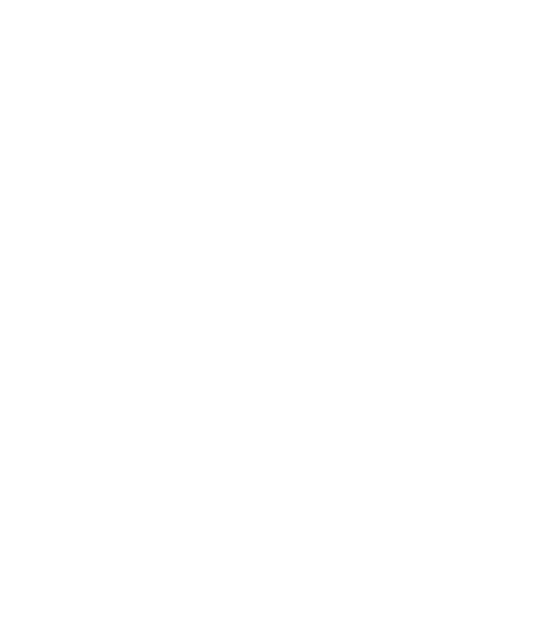
Палуба лайнера «Лузитания», около 1905–1907 гг.
Когда Льюис дописал «За бортом», его собственное положение было крайне шатким. Он жил не по средствам, залез в долги и месяцами не платил за жилье. За несколько недель до выхода романа в издательстве Viking в мае 1937 года Льюис объявил себя банкротом: он накопил 3100 долларов долга — больше годовой зарплаты журналиста — и никаких активов, кроме гипотетических будущих роялти. Это был не последний раз, когда он оказывался на мели. Рецензии на «За бортом» стали появляться почти сразу — первая вышла 23 мая в The New York Times, в той же газете, где недавно напечатали новость о его банкротстве. Обозреватель Чарльз Пур назвал книгу «забавной и увлекательной», но уловил и скрытый замысел автора: «Кажется, Стэндиш проходит через эксперимент».
Многие рецензенты посчитали книгу слишком короткой и легковесной. «Книга хороша для своего жанра, но не стала шедевром, хотя могла бы», — писал Уильям Роуз Бенет в The Saturday Review. Лишь Арнольд Палмер, обозревая британское издание, выпущенное Виктором Голланцем, отметил достоинство краткой формы: «Он с редким мастерством и силой рассказал историю, которую большинство писателей испортили бы, растянув до полноценного романа или поддавшись редакторским требованиям».
На помощь Льюису пришел Голливуд. В августе 1937 года The Hollywood Reporter сообщил, что компания Metro Goldwyn Mayer подписала контракт с писателем, взяв его на работу штатным сценаристом с щедрой по тем временам зарплатой 250 долларов в неделю. Льюис вместе с женой Гитой и маленьким сыном Майклом отправились в Калифорнию и прибыли туда в начале сентября «без гроша в кармане», как он писал брату Бену (на бланке студии MGM). К Рождеству Льюис уже мог сообщить, что занят переработкой немого фильма «Скажите это морякам» и рассчитывает «остаться здесь надолго».
Но долги все еще не давали ему покоя. Он писал Бену: «Люди давят на меня, требуют денег и делают жизнь невыносимой, угрожая судом и арестом зарплаты». «Остальные писатели живут в больших домах и прекрасно проводят время, — жаловался он, — а мы с Гитой ютимся в лачуге». MGM отложила ремейк фильма «Скажите это морякам», а контракт Льюиса не продлили. Он устроился на работу в студию RKO Pictures, где вместе с Яном Хантером работал над фильмами «Рыбацкая пристань» и «Побег в рай» — второсортными мюзиклами с мальчиком-тенором Бобби Брином, вышедшими в 1939 году; оба фильма были довольно шаблонными и быстро забылись. К концу года Льюис ушел из RKO и вернулся в Нью-Йорк с предложением от рекламного агентства J. Walter Thompson и рукописью второго романа под мышкой.
Многие рецензенты посчитали книгу слишком короткой и легковесной. «Книга хороша для своего жанра, но не стала шедевром, хотя могла бы», — писал Уильям Роуз Бенет в The Saturday Review. Лишь Арнольд Палмер, обозревая британское издание, выпущенное Виктором Голланцем, отметил достоинство краткой формы: «Он с редким мастерством и силой рассказал историю, которую большинство писателей испортили бы, растянув до полноценного романа или поддавшись редакторским требованиям».
На помощь Льюису пришел Голливуд. В августе 1937 года The Hollywood Reporter сообщил, что компания Metro Goldwyn Mayer подписала контракт с писателем, взяв его на работу штатным сценаристом с щедрой по тем временам зарплатой 250 долларов в неделю. Льюис вместе с женой Гитой и маленьким сыном Майклом отправились в Калифорнию и прибыли туда в начале сентября «без гроша в кармане», как он писал брату Бену (на бланке студии MGM). К Рождеству Льюис уже мог сообщить, что занят переработкой немого фильма «Скажите это морякам» и рассчитывает «остаться здесь надолго».
Но долги все еще не давали ему покоя. Он писал Бену: «Люди давят на меня, требуют денег и делают жизнь невыносимой, угрожая судом и арестом зарплаты». «Остальные писатели живут в больших домах и прекрасно проводят время, — жаловался он, — а мы с Гитой ютимся в лачуге». MGM отложила ремейк фильма «Скажите это морякам», а контракт Льюиса не продлили. Он устроился на работу в студию RKO Pictures, где вместе с Яном Хантером работал над фильмами «Рыбацкая пристань» и «Побег в рай» — второсортными мюзиклами с мальчиком-тенором Бобби Брином, вышедшими в 1939 году; оба фильма были довольно шаблонными и быстро забылись. К концу года Льюис ушел из RKO и вернулся в Нью-Йорк с предложением от рекламного агентства J. Walter Thompson и рукописью второго романа под мышкой.
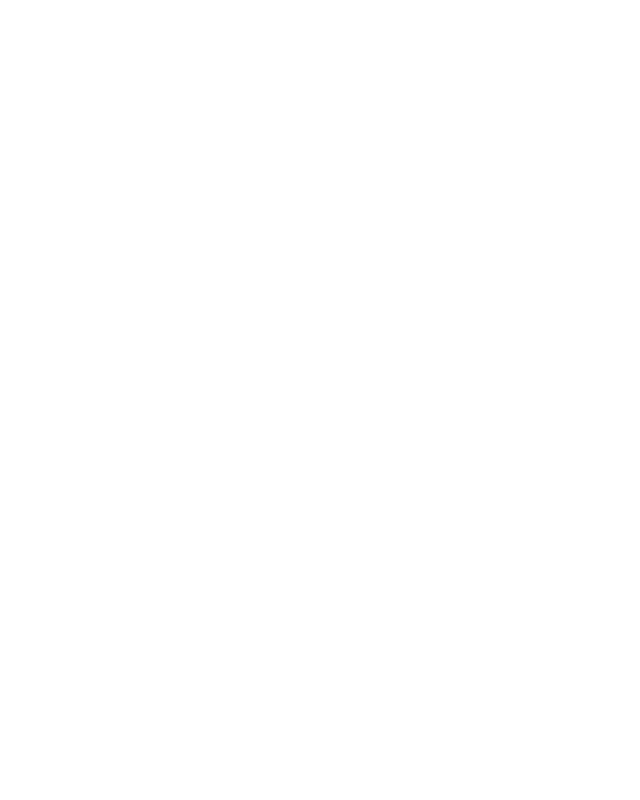
Символ Голливуда: знак MGM Studios на закате.
Калвер-Сити, штат Калифорния, 1935 год
Калвер-Сити, штат Калифорния, 1935 год
Начало войны в Европе пробудило у Льюиса пацифистские настроения. В его втором романе «Весеннее наступление» Питер Уинстон, молодой американец без работы, несчастный в любви и чуждый изоляционистскому духу Америки, решает, что для него нет места в собственной стране, и отправляется в Англию, чтобы вступить в Британскую армию. Во Франции в составе экспедиционного корпуса он сталкивается с месяцами бездействия во время «Странной войны» 1939−1940 годов. В знак протеста он прокрадывается на нейтральную территорию между линиями Мажино и Зигфрида и сажает семена душистого горошка. Но тут ранним утром Странная война внезапно превращается в настоящую: Уинстон оказывается между двух огней, безоружный, без шансов на выживание. Как и Стэндиш в последние мгновения своей жизни, он теряет всякую надежду. Его поражает снаряд, и Уинстон погибает.
Время выхода книги оказалось крайне неудачным. «Весеннее наступление» опубликовали в конце апреля 1940 года. Через две недели немецкие танки вошли в Бельгию, Францию и Нидерланды. К концу июня Франция капитулировала. «Для самой книги было бы гораздо лучше, если бы она вышла до начала весеннего наступления», — констатировал автор рецензии в The Saturday Review. Ральф Эллисон в журнале New Masses писал: «Сейчас о ней почти не будут говорить в капиталистической прессе». И он оказался прав: книга исчезла бесследно.
Время выхода книги оказалось крайне неудачным. «Весеннее наступление» опубликовали в конце апреля 1940 года. Через две недели немецкие танки вошли в Бельгию, Францию и Нидерланды. К концу июня Франция капитулировала. «Для самой книги было бы гораздо лучше, если бы она вышла до начала весеннего наступления», — констатировал автор рецензии в The Saturday Review. Ральф Эллисон в журнале New Masses писал: «Сейчас о ней почти не будут говорить в капиталистической прессе». И он оказался прав: книга исчезла бесследно.
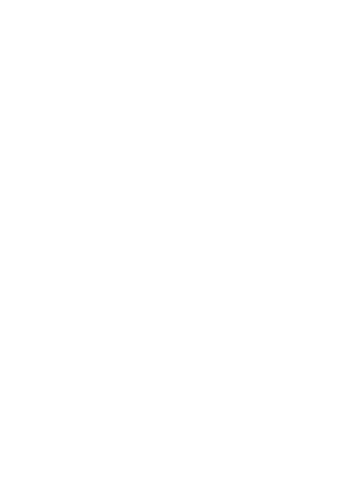
Обложка романа «Весеннее наступление», 1940
Но Льюис все еще надеялся добиться успеха как романист. Думая, что его трудности связаны с необходимостью одновременно работать и писать, он вместе с семьей, включая младшую дочь Джейн, уехал в тихий городок Провинстаун в штате Массачусетс. Там он написал свой третий роман, «С праздником!», рассказывающий о жильцах дома в Гринвич-Виллидж в канун Рождества и выражающий одновременно любовь и ненависть к Нью-Йорку. Здесь стиль Льюиса стал более насыщенным; книга полна ярких и живых деталей:
Медленно город просыпался: машины переключали передачи, гудели клаксоны, хлопали двери, под землей грохотали поезда, скрипели и вращались механизмы, топали ноги, плакали младенцы, кричали дети, торговцы зазывали покупателей. Медленно оживали и запахи: кофе варился, бекон шкворчал на сковороде, мусор разлагался, в чанах булькали химикаты.
Хотя стиль Льюиса был полон жизни, сама тема романа оставалась мрачной: «проблема одиночества в городе с восемью миллионами жителей». Один из жильцов — немецкий беженец, у которого нет ни друзей, ни знакомых в новой стране. Другой — озлобленный алкоголик, третья — старая женщина, пережившая всю свою семью. Некоторым удается на несколько часов создать небольшое сообщество, но книга не утешает читателя хэппи-эндом. На рождественской вечеринке один из жильцов, мистер Киттредж, который утром был уверен, что «жить больше нет смысла», понимает, что за день ничего не изменилось. Он тихо выходит в Вашингтон-парк с ружьем и кончает с собой: «Во всем продуваемом ветром парке, во всех домах, таунхаусах и колледжах не открылось ни одно окно; никто не захотел узнать, что случилось». Не прошло и десяти лет, когда Льюис умер один, всеми забытый, в отеле «Эрл» прямо напротив этого парка.
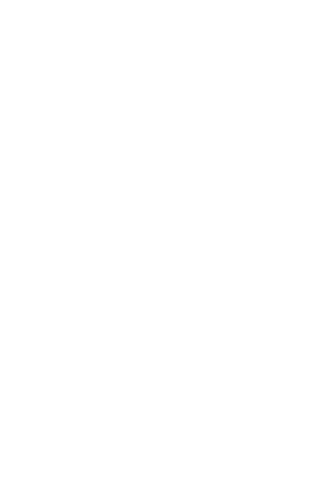
Обложка романа «С праздником!», 1941
После года работы репортером в The New York Herald Tribune Льюис снова попытался зарабатывать на жизнь писательством — без особого успеха. Как рассказывал Фред Бек из Los Angeles Times, к концу 1942 года Льюис «превратился в маленького грустного человека, который, дрожа, бродил по улицам Нью-Йорка». Его рассказ «Двуликий Куиллиган» был отвергнут тридцатью тремя журналами, и он опасался, «что в Рождество на столе у семьи будет лишь салями». Бек писал: «Герби мечтал, чтобы кто-то из знакомых одолжил ему доллар». Вернувшись домой, Льюис обнаружил письмо из журнала Story и чек на 50 долларов — хватит на рождественский ужин и пару месяцев жизни. Вскоре журнал Variety сообщил, что студия 20th Century Fox купила права на экранизацию и наняла Льюиса сценаристом со ставкой 500 долларов в неделю. Льюис с семьей вернулся в Лос-Анджелес.
Хотя ему удалось подзаработать, в Голливуде Льюис так и не обрел покоя. «Жизнь здесь довольно скучна, — писал он брату Бену в июле 1943 года. — Кажется нереальным каждый день ходить на студию и писать сценарии про вымышленных людей, пока настоящие повсюду с удовольствием убивают друг друга». В ноябре он жаловался: «Смотрю вокруг — и все, что приносит успех, мне не по душе. Бассейны полны дохлых мух и незваных гостей. Большие дома — живых мух и незваных гостей». Льюис сообщил, что принял предложение радиокомика Фреда Аллена и возвращается с семьей в Нью-Йорк. Фред Бек с иронией писал об этом в Los Angeles Times: «У Фреда Аллена появился новый писатель — совсем свежий. Интересно, будут ли теперь все счастливы, получив желаемое?»
Ответ был отрицательным. Льюис рассчитывал заменить нескольких сценаристов, которых должны были вскоре призвать в армию. Но их не призвали. После восьми недель работы над шоу Аллена Льюис решил: «Я устал брать деньги под ложным предлогом» и вернулся в Голливуд. Льюис продолжил сотрудничество со студией 20th Century Fox, которая в июне 1945 года выпустила фильм по его рассказу — «Дон Жуан Куиллиган». Как бы он ни относился к этой работе, Льюис отчаянно нуждался в деньгах. В начале 1945 года он жаловался брату Бену: «Налоговая удержала мою зарплату, чтобы погасить старый долг перед дядей Сэмом. Это сильно ограничивает мои средства и фактически исключает на ближайшие месяцы наши планы прислать тебе свадебный подарок».
Единственная передышка от студийной работы пришлась на май 1945 года: Льюис вместе с Далтоном Трамбо и еще четырьмя сценаристами отправился в шестинедельное турне по зонам боевых действий в юго-западной части Тихого океана по приглашению генерала Генри «Хэпа» Арнольда, главы Корпуса ВВС армии США. «Это путешествие длиной в шестнадцать тысяч миль позволяет мне по-настоящему увидеть войну, — писал он с Гуама 16 июня 1945 года. — Самолеты, флот, пехоту, почти все остальное».
Хотя ему удалось подзаработать, в Голливуде Льюис так и не обрел покоя. «Жизнь здесь довольно скучна, — писал он брату Бену в июле 1943 года. — Кажется нереальным каждый день ходить на студию и писать сценарии про вымышленных людей, пока настоящие повсюду с удовольствием убивают друг друга». В ноябре он жаловался: «Смотрю вокруг — и все, что приносит успех, мне не по душе. Бассейны полны дохлых мух и незваных гостей. Большие дома — живых мух и незваных гостей». Льюис сообщил, что принял предложение радиокомика Фреда Аллена и возвращается с семьей в Нью-Йорк. Фред Бек с иронией писал об этом в Los Angeles Times: «У Фреда Аллена появился новый писатель — совсем свежий. Интересно, будут ли теперь все счастливы, получив желаемое?»
Ответ был отрицательным. Льюис рассчитывал заменить нескольких сценаристов, которых должны были вскоре призвать в армию. Но их не призвали. После восьми недель работы над шоу Аллена Льюис решил: «Я устал брать деньги под ложным предлогом» и вернулся в Голливуд. Льюис продолжил сотрудничество со студией 20th Century Fox, которая в июне 1945 года выпустила фильм по его рассказу — «Дон Жуан Куиллиган». Как бы он ни относился к этой работе, Льюис отчаянно нуждался в деньгах. В начале 1945 года он жаловался брату Бену: «Налоговая удержала мою зарплату, чтобы погасить старый долг перед дядей Сэмом. Это сильно ограничивает мои средства и фактически исключает на ближайшие месяцы наши планы прислать тебе свадебный подарок».
Единственная передышка от студийной работы пришлась на май 1945 года: Льюис вместе с Далтоном Трамбо и еще четырьмя сценаристами отправился в шестинедельное турне по зонам боевых действий в юго-западной части Тихого океана по приглашению генерала Генри «Хэпа» Арнольда, главы Корпуса ВВС армии США. «Это путешествие длиной в шестнадцать тысяч миль позволяет мне по-настоящему увидеть войну, — писал он с Гуама 16 июня 1945 года. — Самолеты, флот, пехоту, почти все остальное».
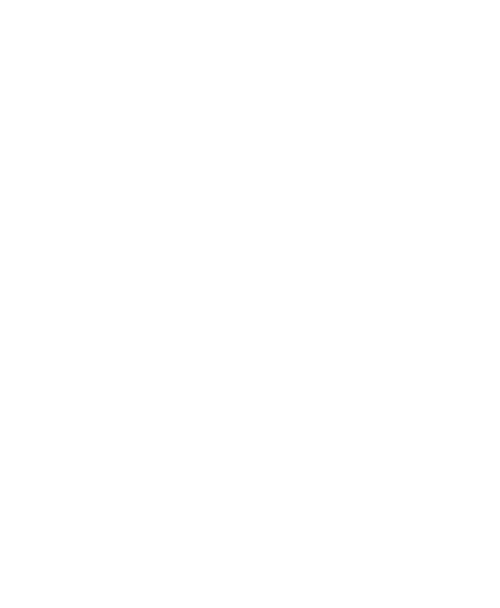
Герберт Клайд Льюис (внизу слева), и другие репортеры в южной части Тихого океана, июнь 1945 года
Война закончилась всего через два месяца после возвращения Льюиса. Он продал права на экранизацию еще нескольких рассказов: «День Д в Лас-Вегасе» в студию RKO и «Историю Пятой авеню», которую написал вместе с Фредериком Стефани — в Liberty Films. Экранизация под названием «Это случилось на Пятой авеню» в 1947 году принесла обоим номинации на «Оскар». Но к тому времени жизнь Льюиса уже шла под откос. Он злоупотреблял алкоголем и принимал барбитураты, чтобы заснуть. Его сын Майкл вспоминал, что видел, как отец сидит в кресле «голым и без сознания». «Мама сказала, что это алкоголь и секонал», — добавляет он. Гита Льюис начала сама писать сценарии для студий. По словам Майкла, «настоящими родителями для меня и сестры» в то время были домработницы, нанятые на полный день. Пара разъехалась в июле 1947 года.
Профессиональная жизнь Льюиса тоже стала рушиться. В январе 1947 года он вошел в редакцию журнала The Screen Writer при Гильдии сценаристов. Но вскоре Гильдия оказалась под пристальным вниманием ФБР: спецслужбы искали следы возможного проникновения коммунистов в киноиндустрию. В поддержку Комитета Палаты представителей по антиамериканской деятельности ФБР опросило десятки свидетелей и собрало тысячи документов о либеральной политической активности в Голливуде. Один из информаторов назвал Льюиса членом Американской коммунистической партии.
Правда это или нет, время снова было не на его стороне. Он присоединился к более чем ста писателям, актерам, режиссерам и музыкантам, подписавшим открытую петицию с протестом против слушаний Комитета Палаты представителей — что только подлило масла в огонь подозрений насчет его политических взглядов. Через месяц Далтон Трамбо и еще девять членов Гильдии сценаристов были обвинены в неуважении к Конгрессу за отказ давать показания. В декабре 1947 года группа крупнейших студийных боссов собралась в Нью-Йорке и заявила: «Мы не будем сознательно нанимать коммунистов или членов какой-либо партии или группы, выступающих за свержение правительства США». Так началась практика «черных списков». «Бассейны в Голливуде высыхают. Думаю, на моем веку их уже не заполнят», — сказал Льюис репортеру. Но он воспринимал ситуацию всерьез: в середине 1948 года у него случился нервный срыв, и целый год он не мог работать.
В сентябре 1949 года он в последний раз вернулся в Нью-Йорк — один. Жена Гита осталась в Голливуде. Льюис устроился редактором и переписывал статьи для газеты The New York Mirror. «Я отлично провел время и полностью пришел в порядок», — писал он брату Бену в октябре 1949 года, добавив, что продал несколько рассказов, чтобы заработать немного денег для Гиты и детей. Майкл Льюис вспоминает Рождество 1949 года: «Мы четверо пытались снова жить вместе как семья». Но, видимо, брак уже трещал по швам. Гита забрала Майкла и Джейн обратно в Голливуд и стала жить с Таней Таттл, женой режиссера Фрэнка Таттла, который тоже оказался в черных списках и отправился искать работу во Францию.
В апреле 1950 года Льюис подал на банкротство. Его долги составляли более $26 000, не считая налогов. Он поселился в отеле «Эрл» в Гринвич-Виллидж. Когда-то считавшийся одним из лучших отелей города, в 1950 году он, по словам поэта Дилана Томаса, который останавливался там примерно в то же время, что и Льюис, превратился в «свинарник». Льюис перешел из Mirror в Time, но по-прежнему едва сводил концы с концами. В переписке он извинялся перед братом Беном, что не может помочь оплатить отцовские счета за операцию на простате.
В конце сентября он покинул Time — добровольно или нет, точно неизвестно. Через три недели его нашли мертвым в гостиничном номере. Хотя в свидетельстве о смерти было указано, что причиной стала сердечная недостаточность, некоторые считали, что Льюис покончил с собой — что, как писал Далтон Трамбо своей жене, было «грустно, но не удивительно». «Единственная пища тонущего — надежда на спасение», — писал Льюис в книге «За бортом». Возможно, сам он уже потерял надежду.
Профессиональная жизнь Льюиса тоже стала рушиться. В январе 1947 года он вошел в редакцию журнала The Screen Writer при Гильдии сценаристов. Но вскоре Гильдия оказалась под пристальным вниманием ФБР: спецслужбы искали следы возможного проникновения коммунистов в киноиндустрию. В поддержку Комитета Палаты представителей по антиамериканской деятельности ФБР опросило десятки свидетелей и собрало тысячи документов о либеральной политической активности в Голливуде. Один из информаторов назвал Льюиса членом Американской коммунистической партии.
Правда это или нет, время снова было не на его стороне. Он присоединился к более чем ста писателям, актерам, режиссерам и музыкантам, подписавшим открытую петицию с протестом против слушаний Комитета Палаты представителей — что только подлило масла в огонь подозрений насчет его политических взглядов. Через месяц Далтон Трамбо и еще девять членов Гильдии сценаристов были обвинены в неуважении к Конгрессу за отказ давать показания. В декабре 1947 года группа крупнейших студийных боссов собралась в Нью-Йорке и заявила: «Мы не будем сознательно нанимать коммунистов или членов какой-либо партии или группы, выступающих за свержение правительства США». Так началась практика «черных списков». «Бассейны в Голливуде высыхают. Думаю, на моем веку их уже не заполнят», — сказал Льюис репортеру. Но он воспринимал ситуацию всерьез: в середине 1948 года у него случился нервный срыв, и целый год он не мог работать.
В сентябре 1949 года он в последний раз вернулся в Нью-Йорк — один. Жена Гита осталась в Голливуде. Льюис устроился редактором и переписывал статьи для газеты The New York Mirror. «Я отлично провел время и полностью пришел в порядок», — писал он брату Бену в октябре 1949 года, добавив, что продал несколько рассказов, чтобы заработать немного денег для Гиты и детей. Майкл Льюис вспоминает Рождество 1949 года: «Мы четверо пытались снова жить вместе как семья». Но, видимо, брак уже трещал по швам. Гита забрала Майкла и Джейн обратно в Голливуд и стала жить с Таней Таттл, женой режиссера Фрэнка Таттла, который тоже оказался в черных списках и отправился искать работу во Францию.
В апреле 1950 года Льюис подал на банкротство. Его долги составляли более $26 000, не считая налогов. Он поселился в отеле «Эрл» в Гринвич-Виллидж. Когда-то считавшийся одним из лучших отелей города, в 1950 году он, по словам поэта Дилана Томаса, который останавливался там примерно в то же время, что и Льюис, превратился в «свинарник». Льюис перешел из Mirror в Time, но по-прежнему едва сводил концы с концами. В переписке он извинялся перед братом Беном, что не может помочь оплатить отцовские счета за операцию на простате.
В конце сентября он покинул Time — добровольно или нет, точно неизвестно. Через три недели его нашли мертвым в гостиничном номере. Хотя в свидетельстве о смерти было указано, что причиной стала сердечная недостаточность, некоторые считали, что Льюис покончил с собой — что, как писал Далтон Трамбо своей жене, было «грустно, но не удивительно». «Единственная пища тонущего — надежда на спасение», — писал Льюис в книге «За бортом». Возможно, сам он уже потерял надежду.
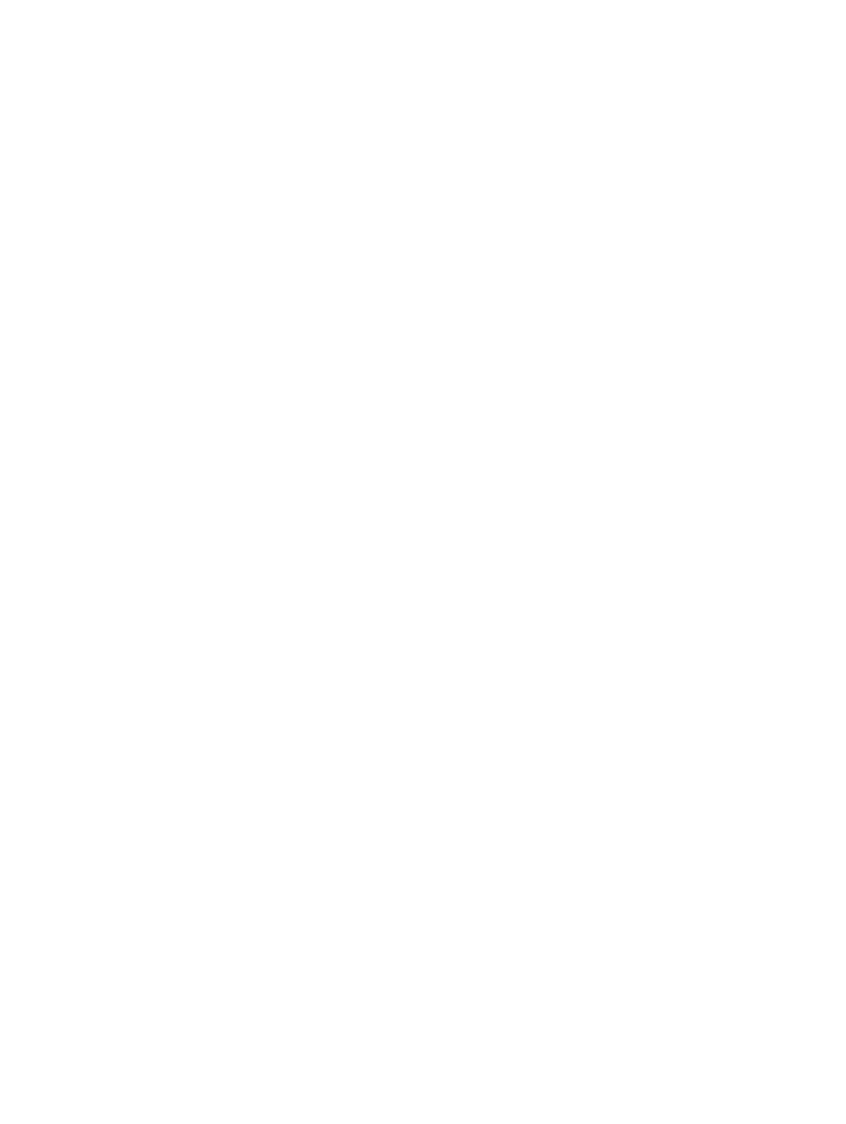
Отель «Эрл» в Гринвич-Виллидж, Нью-Йорк
Льюис оставил вдове небольшое наследство — главным образом возможные доходы от будущих продаж своих произведений, да и тех было немного. В декабре 1950 года один из его ранних рассказов, «Сюрприз для ребят», экранизировали для телесериала студии CBS «Опасность». Через несколько лет продюсер выкупил права на рассказ «Невеста в пижаме», но фильм так и не вышел на экраны. В 1959 году Гита, уже вышедшая замуж во второй раз, продала его незавершенный роман «Серебряная тьма» издательству Pyramid Books. Хотя на обложке писатель Бадд Шульберг называл книгу «по-настоящему оригинальным и захватывающим» произведением, она осталась без рецензий и переизданий. В мировых библиотеках сохранилось всего несколько экземпляров.
«Серебряная тьма» могла бы стать точкой в истории Льюиса как литератора. Его творчество игнорировалось в обзорах американской прозы, а имя сохранилось в справочниках лишь благодаря кинематографическим работам. Дочь Джейн умерла в 1985 году от диабета; оба брата — в конце 1990-х; вдова Гита — в 2001 году. Лишь сын Майкл с несколькими письмами отца и одной страницей из его дневника остался хранителем памяти о Льюисе.
Весной 2009 года, просматривая архивы Time, я наткнулся на рецензию на книгу «За бортом». «Каково это — упасть за борт посреди Тихого океана? — спрашивал рецензент. — С такой же спокойной уверенностью, как будто он сам прошел через этот опыт, Герберт Клайд Льюис описывает ощущения тонущего человека». Я искал давно забытые книги с уникальными особенностями, и это произведение показалось мне идеальным кандидатом. Я нашел экземпляр, прочитал и написал короткую восторженную рецензию, назвав книгу экспериментом:
«Серебряная тьма» могла бы стать точкой в истории Льюиса как литератора. Его творчество игнорировалось в обзорах американской прозы, а имя сохранилось в справочниках лишь благодаря кинематографическим работам. Дочь Джейн умерла в 1985 году от диабета; оба брата — в конце 1990-х; вдова Гита — в 2001 году. Лишь сын Майкл с несколькими письмами отца и одной страницей из его дневника остался хранителем памяти о Льюисе.
Весной 2009 года, просматривая архивы Time, я наткнулся на рецензию на книгу «За бортом». «Каково это — упасть за борт посреди Тихого океана? — спрашивал рецензент. — С такой же спокойной уверенностью, как будто он сам прошел через этот опыт, Герберт Клайд Льюис описывает ощущения тонущего человека». Я искал давно забытые книги с уникальными особенностями, и это произведение показалось мне идеальным кандидатом. Я нашел экземпляр, прочитал и написал короткую восторженную рецензию, назвав книгу экспериментом:
Важно не то, удастся ли эксперимент или нет, а внимательное наблюдение за происходящим. Льюис ставит эксперимент над своим героем и наблюдает за ним. Немногие ученые смогли бы зафиксировать результаты с такой легкостью и изяществом. Говорят, что настоящий художник знает, когда нужно остановиться… и останавливается. Книга «За бортом» доказывает, что Герберт Клайд Льюис — настоящий художник.
Через несколько месяцев мне написал Диего Д’Онофрио, редактор небольшого испаноязычного издательства La Bestia Equilatera из Буэнос-Айреса: «Хочу спросить: какую незаслуженно забытую книгу вы бы посоветовали мне издать?» Я плохо представлял себе их аудиторию, поэтому не стал размахивать списками, а сходу ответил: «Я бы выбрал „За бортом“ Герберта Клайда Льюиса. Ее сравнительно легко перевести, и в ней есть мощная сюжетная линия, которая тут же захватывает». Диего поблагодарил меня и написал, что закажет экземпляр.
Диего и главный редактор издательства Луис Читтарони пришли от книги в восторг. В мае 2010 года они заключили контракт с переводчиком и внесли ее в издательский план. По-испански она должна была выйти под названием El caballero que cayó al mar («Джентльмен, упавший в море»). Как позже заметил Д’Онофрио, выпустить в другой стране забытое произведение — непростая задача: «Никто ведь не знает ни автора, ни саму книгу, которая давно забыта даже у себя на родине… Единственное, на что остается надеяться, — что сама книга окажется по-настоящему исключительной».
«Джентельмен» не подвел. Первые отклики были один лучше другого: «Просто и мастерски. Ничего больше», — писал Алехандро Фриас в El Sol de Mendoza. Другой рецензент назвал роман una perlita — «маленькой жемчужиной». Волна признания вскоре вышла за пределы Аргентины. Испанский критик Игнасио Эчеваррия посвятил книге восторженную колонку в El Cultural, а в 2019 году CNN Chile включила ее в список своих рекомендаций: «С мастерской простотой Льюис поднимает повествование на философскую высоту». Как отмечает Д’Онофрио, El caballero — «книга, получившая самое единодушное признание за всю историю нашего издательства, а мы выпустили уже больше девяноста книг».
Диего и главный редактор издательства Луис Читтарони пришли от книги в восторг. В мае 2010 года они заключили контракт с переводчиком и внесли ее в издательский план. По-испански она должна была выйти под названием El caballero que cayó al mar («Джентльмен, упавший в море»). Как позже заметил Д’Онофрио, выпустить в другой стране забытое произведение — непростая задача: «Никто ведь не знает ни автора, ни саму книгу, которая давно забыта даже у себя на родине… Единственное, на что остается надеяться, — что сама книга окажется по-настоящему исключительной».
«Джентельмен» не подвел. Первые отклики были один лучше другого: «Просто и мастерски. Ничего больше», — писал Алехандро Фриас в El Sol de Mendoza. Другой рецензент назвал роман una perlita — «маленькой жемчужиной». Волна признания вскоре вышла за пределы Аргентины. Испанский критик Игнасио Эчеваррия посвятил книге восторженную колонку в El Cultural, а в 2019 году CNN Chile включила ее в список своих рекомендаций: «С мастерской простотой Льюис поднимает повествование на философскую высоту». Как отмечает Д’Онофрио, El caballero — «книга, получившая самое единодушное признание за всю историю нашего издательства, а мы выпустили уже больше девяноста книг».
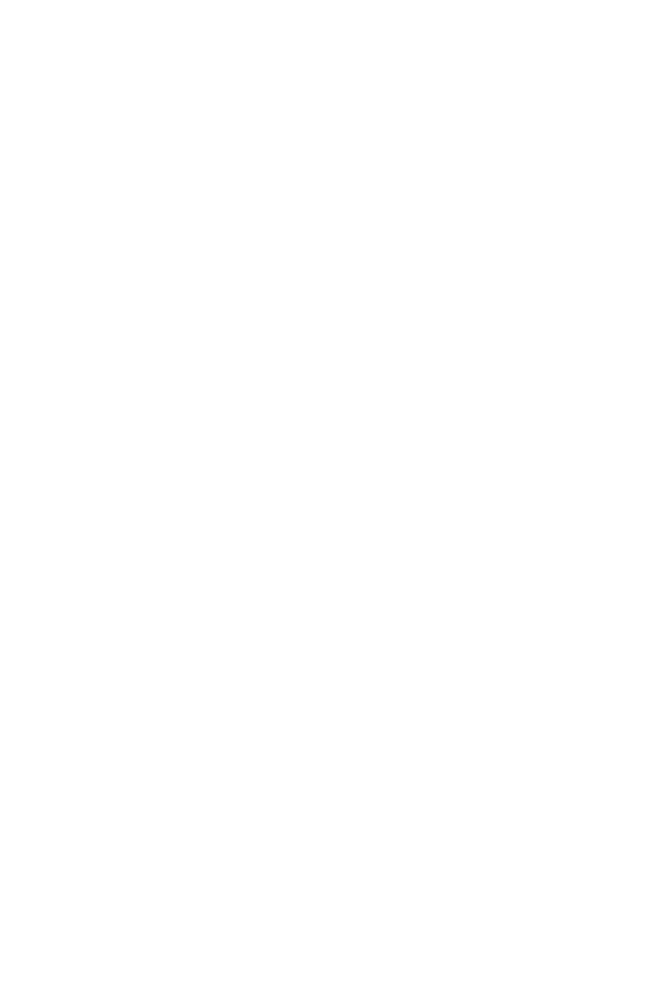
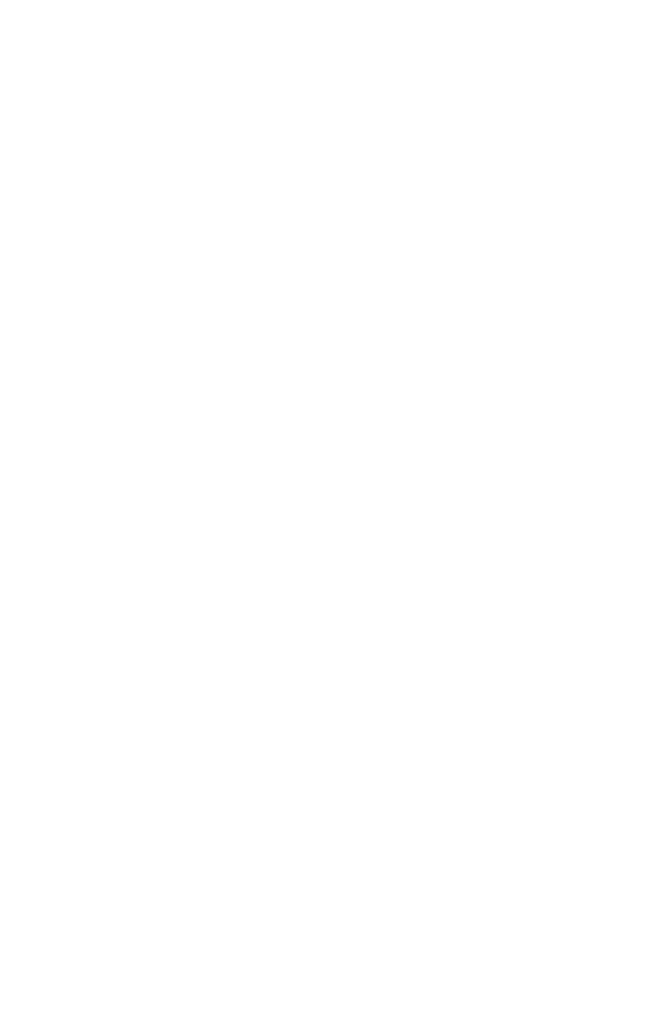
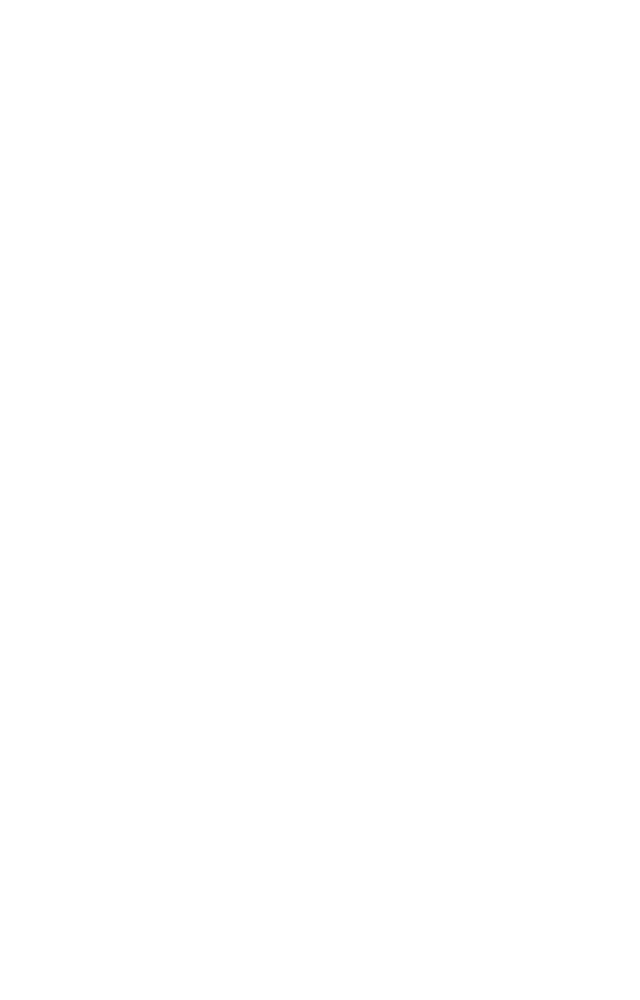
Когда испанский перевод еще был в работе, Луис Читтарони стал рассылать верстку оригинального американского издания знакомым в аргентинской литературной среде. Писатель Пабло Катчаджян затем посоветовал книгу своему другу Уриэлю Кону — аргентинцу еврейского происхождения, жившему в Иерусалиме. Тот как раз запускал небольшое издательство Zikit Books и подыскивал англоязычные романы, которые легко перевести и быстро издать на иврите. Повесть подошла идеально: «чистая, изящная проза; напряженная экзистенциальная история; книга, которую можно прочесть за один вечер». Он подыскал переводчика, и в июне 2013 года Zikit выпустило книгу на иврите.
Она явно попала в нерв израильской аудитории. В большой рецензии в Ha’aretz, одной из самых популярных газет страны, ее назвали «миниатюрным шедевром, возвращенным из забвения». В Zikit напечатали тысячу экземпляров — тираж, который Кон тогда считал «излишне оптимистичным». Но он разошелся меньше чем за два месяца, и суммарные продажи перевалили за семь тысяч экземпляров. «В Израиле примерно три-четыре тысячи серьезных читателей художественной литературы, — говорил Кон. — По этим меркам — это настоящий бестселлер, культовая вещь». История Стэндиша — человека, потерянного в огромном океане, — как считает Кон, «нашла отклик в душах израильских интеллектуалов, которые чувствовали себя изолированными — и как евреи среди арабского мира, и как люди, которых не слышно в обществе, где преобладают консервативные настроения».
В сентябре 2020 года амстердамское издательство Auteursdomein выпустило голландский перевод — Overboord («За бортом»). Проект поддержала писательница Полин ван де Вен: она случайно обнаружила роман в коробке с макулатурой и пепельницами, которая досталась ей от дальнего родственника. «Я проглотила книгу залпом, от первой страницы до последней, — писала она. — Меня поразили суровый, отточенный стиль, мощные визуальные образы и универсальность этой захватывающей и тревожащей истории». На ее взгляд, сила книги — в обращении к парадоксальному чувству «общего одиночества». Она уверена: книгу можно поместить «в ту же галерею славы», что и "Смерть Ивана Ильича" Льва Толстого — еще одну повесть о благополучном человеке, оказавшемся лицом к лицу с собственной гибелью. «Это настоящий экзистенциалистский шедевр».
В 2021 году я имел честь открыть серию Recovered Books в британском издательстве Boiler House Press, цель которой — вернуть современному читателю произведения давно забытых авторов. С тех пор повесть «За бортом» продолжает заслуженно привлекать внимание читателей по всему миру: появились переводы на арабский, французский, немецкий, итальянский, португальский, турецкий, а теперь и на русский.
История спасения этой книги напоминает о том, как важно постоянно искать голоса авторов, которые — из-за невзгод, неудачного стечения обстоятельств или просто невезения — выпали из истории литературы. Если мы сумеем прислушаться, окажется, что им по-прежнему есть что сказать.
Она явно попала в нерв израильской аудитории. В большой рецензии в Ha’aretz, одной из самых популярных газет страны, ее назвали «миниатюрным шедевром, возвращенным из забвения». В Zikit напечатали тысячу экземпляров — тираж, который Кон тогда считал «излишне оптимистичным». Но он разошелся меньше чем за два месяца, и суммарные продажи перевалили за семь тысяч экземпляров. «В Израиле примерно три-четыре тысячи серьезных читателей художественной литературы, — говорил Кон. — По этим меркам — это настоящий бестселлер, культовая вещь». История Стэндиша — человека, потерянного в огромном океане, — как считает Кон, «нашла отклик в душах израильских интеллектуалов, которые чувствовали себя изолированными — и как евреи среди арабского мира, и как люди, которых не слышно в обществе, где преобладают консервативные настроения».
В сентябре 2020 года амстердамское издательство Auteursdomein выпустило голландский перевод — Overboord («За бортом»). Проект поддержала писательница Полин ван де Вен: она случайно обнаружила роман в коробке с макулатурой и пепельницами, которая досталась ей от дальнего родственника. «Я проглотила книгу залпом, от первой страницы до последней, — писала она. — Меня поразили суровый, отточенный стиль, мощные визуальные образы и универсальность этой захватывающей и тревожащей истории». На ее взгляд, сила книги — в обращении к парадоксальному чувству «общего одиночества». Она уверена: книгу можно поместить «в ту же галерею славы», что и "Смерть Ивана Ильича" Льва Толстого — еще одну повесть о благополучном человеке, оказавшемся лицом к лицу с собственной гибелью. «Это настоящий экзистенциалистский шедевр».
В 2021 году я имел честь открыть серию Recovered Books в британском издательстве Boiler House Press, цель которой — вернуть современному читателю произведения давно забытых авторов. С тех пор повесть «За бортом» продолжает заслуженно привлекать внимание читателей по всему миру: появились переводы на арабский, французский, немецкий, итальянский, португальский, турецкий, а теперь и на русский.
История спасения этой книги напоминает о том, как важно постоянно искать голоса авторов, которые — из-за невзгод, неудачного стечения обстоятельств или просто невезения — выпали из истории литературы. Если мы сумеем прислушаться, окажется, что им по-прежнему есть что сказать.
Источник: The Neglected Books Page