О книге «Естественная история Селборна»
Вирджиния Вулф
Вирджиния Вулф обращается к Гилберту Уайту без пиетета и снисходительности. «Естественная история Селборна» интересует ее не как памятник науки XVIII века или сельская идиллия о гармоничной жизни наедине с природой, а как странный литературный объект, написанный человеком, который не подозревал, что занимается литературой. Читая Уайта, Вулф внимательно следит за тем, как наблюдение за природой постепенно вытесняет автора из текста — и именно в этом исчезновении обнаруживает его подлинную силу.
Эссе Вулф об Уайте, озаглавленное White’s Selborne, было опубликовано в 1939 году в журнале New Statesman and Nation и позднее вошло в посмертный сборник The Captain’s Death Bed and Other Essays (1950). Публикуем его целиком.
Эссе Вулф об Уайте, озаглавленное White’s Selborne, было опубликовано в 1939 году в журнале New Statesman and Nation и позднее вошло в посмертный сборник The Captain’s Death Bed and Other Essays (1950). Публикуем его целиком.
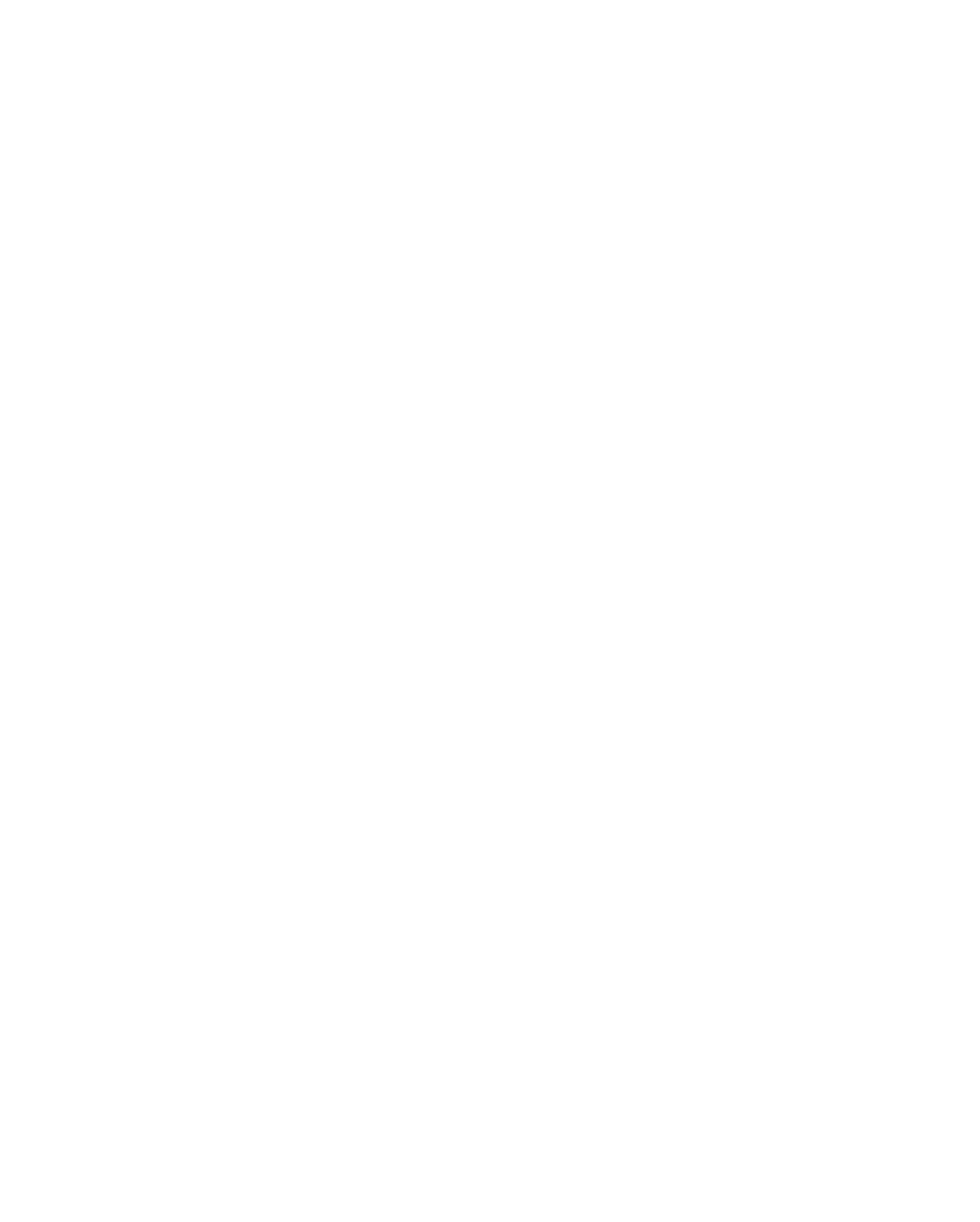
Портрет Гилберта Уайта на основе единственного достоверного прижизненного рисунка, 1740-е
«…у большинства родов есть в движениях нечто узнаваемое, благодаря чему внимательный наблюдатель часто может с первого взгляда угадать, к какому роду принадлежит увиденная особь, со значительной мерой точности».
Гилберт Уайт, конечно, говорит о птицах. Хороший орнитолог, по его словам, должен уметь узнавать их по движениям — «как на земле, так и в воздухе, как в диком состоянии, так и пойманных». Но когда мы пытаемся определить окраску и очертания самого Гилберта Уайта, этой редчайшей особи, как мы оказываемся в тупике. Кто он — гибрид, как та ярко раскрашенная вручную птица на фронтисписе второго тома, нечто среднее между кудахчущей курицей и поющим соловьем?
Это одна из книг с двойным дном: кажется, будто она рассказывает простую историю, но благодаря какому-то, вероятно, неосознанному авторскому приему остается приоткрытая дверь, сквозь нее доносятся далекие звуки — лай собак, скрип колес, — и в час, когда «окутала пейзаж ночная мгла», появляется если не сама Венера, то ее призрак — сова.
Его замысел кажется вполне простым: поделиться с друзьями — Томасом Пеннантом и Дейнсом Баррингтоном — некоторыми наблюдениями за животным и растительным миром родной деревни. Но вступительное, сдержанное и вместе с тем торжественное описание Селборна он составил вовсе не ради этих господ. Вот он перед нами — Селборн, деревня в самом восточном углу графства Гэмпшир, с ее лесистым склоном, овечьим выпасом и глубокими ложбинами, что «отпугивают дам… и вызывают дрожь у робких всадников, проезжающих мимо». Почва здесь состоит частью из глины, частью из мергеля; дома сложены из камня или кирпича; мужчины зарабатывают на посадках хмеля, а женщины весной и летом пропалывают пшеницу.
Ни один романист не мог бы начать лучше. Селборн проступает перед нами ясно, словно на переднем плане картины. Но чего-то не хватает — и вот, прежде чем страницы оживут птичьими голосами, шорохом мышей, стрекотом сверчков и шагами лосихи герцога Ричмонда, мы видим королеву Анну, лежащую на берегу и наблюдающую, как перед ней гонят стадо оленей. Он вскользь упоминает, что услышал этот рассказ от старого егеря Адамса, чьи прадед, отец и он сам несли службу в Волмерском лесу. Так единственная улица деревни Селборн соединяется с историей и укрывается в тени традиции. Ни один романист не сумел бы короче и точнее начать свой рассказ.
Это одна из книг с двойным дном: кажется, будто она рассказывает простую историю, но благодаря какому-то, вероятно, неосознанному авторскому приему остается приоткрытая дверь, сквозь нее доносятся далекие звуки — лай собак, скрип колес, — и в час, когда «окутала пейзаж ночная мгла», появляется если не сама Венера, то ее призрак — сова.
Его замысел кажется вполне простым: поделиться с друзьями — Томасом Пеннантом и Дейнсом Баррингтоном — некоторыми наблюдениями за животным и растительным миром родной деревни. Но вступительное, сдержанное и вместе с тем торжественное описание Селборна он составил вовсе не ради этих господ. Вот он перед нами — Селборн, деревня в самом восточном углу графства Гэмпшир, с ее лесистым склоном, овечьим выпасом и глубокими ложбинами, что «отпугивают дам… и вызывают дрожь у робких всадников, проезжающих мимо». Почва здесь состоит частью из глины, частью из мергеля; дома сложены из камня или кирпича; мужчины зарабатывают на посадках хмеля, а женщины весной и летом пропалывают пшеницу.
Ни один романист не мог бы начать лучше. Селборн проступает перед нами ясно, словно на переднем плане картины. Но чего-то не хватает — и вот, прежде чем страницы оживут птичьими голосами, шорохом мышей, стрекотом сверчков и шагами лосихи герцога Ричмонда, мы видим королеву Анну, лежащую на берегу и наблюдающую, как перед ней гонят стадо оленей. Он вскользь упоминает, что услышал этот рассказ от старого егеря Адамса, чьи прадед, отец и он сам несли службу в Волмерском лесу. Так единственная улица деревни Селборн соединяется с историей и укрывается в тени традиции. Ни один романист не сумел бы короче и точнее начать свой рассказ.
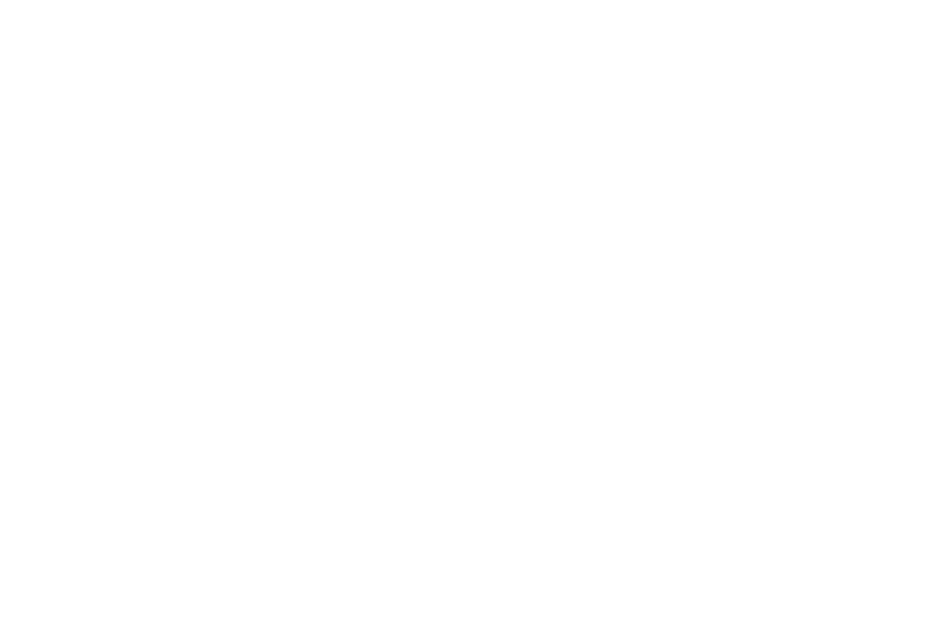
Вид на Селборн. 1789 год, рисунок Самуэля Иеронима Гримма
История Селборна — история животных и растений. Все сплетни здесь — о нравах гадюк и брачных играх лягушек. Даже самый реалистичный романист на фоне Уайта покажется безрассудным романтиком. Он исследует зоб кукушки, препарирует гадюку, выманивает сверчка из норки гибким стебельком травы, измеряет мышь и находит, что вес ее равен одному медному полпенни. Ничто не превосходит этой тщательности, этой бережной сосредоточенности.
Сквозная тема книги — спор о том, куда зимой исчезают ласточки. Баррингтон считал, что они впадают в спячку; Уайт, у которого есть племянник в Андалусии, снабжающий его сведениями, склоняется к версии миграции — и тут же отступает. Каждая крупица свидетельств взвешена, ничто не остается незамеченным. Сосредоточив все свои силы на этом великом вопросе — образец самой чистой, самой искренней науки — он теряет то чувство собственного «я», которое обычно отделяет нас от прочих существ, и сам становится похож на птицу, видимую сквозь бинокль, занятую своим делом в густой живой изгороди. В этот момент, когда его взгляд следит за ласточкой, стоит взглянуть на него самого — на Гилберта Уайта.
Прежде всего в нем поражает очаровательная простота. Он совершенно безразличен к общественному мнению. Он переселяет колонию сверчков на свою лужайку; сажает одного из них в бумажную клетку и ставит на письменный стол, кричит на пчел через переговорную трубу — им всё нипочем; и въезжает в Селборн в почтовой карете, усадив рядом старую черепаху тетушки Снук. При всем этом он издает короткие смешки радости, полусознательные бормотания и комментарии, которые делают его не менее забавным, чем любая из описанных им птиц.
«…но их неравенство в росте — отмечает он, раздумывая о неудавшемся союзе лося и благородного оленя, — должно быть, составляло преграду любовным отношениям». «Спаривание лягушек… знакомо каждому… но я никогда не слышал и не читал о том, чтобы такое же поведение наблюдалось у жаб». «Участь этого бедного неуклюжего пресмыкающегося кажется незавидной» — сетует он, наблюдая за черепахой. И все же есть пора (обычно это начало июня), «когда он проявляет необычайную активность. В эту пору он ходит будто на цыпочках» по садовым дорожкам в поисках любви.
Сквозная тема книги — спор о том, куда зимой исчезают ласточки. Баррингтон считал, что они впадают в спячку; Уайт, у которого есть племянник в Андалусии, снабжающий его сведениями, склоняется к версии миграции — и тут же отступает. Каждая крупица свидетельств взвешена, ничто не остается незамеченным. Сосредоточив все свои силы на этом великом вопросе — образец самой чистой, самой искренней науки — он теряет то чувство собственного «я», которое обычно отделяет нас от прочих существ, и сам становится похож на птицу, видимую сквозь бинокль, занятую своим делом в густой живой изгороди. В этот момент, когда его взгляд следит за ласточкой, стоит взглянуть на него самого — на Гилберта Уайта.
Прежде всего в нем поражает очаровательная простота. Он совершенно безразличен к общественному мнению. Он переселяет колонию сверчков на свою лужайку; сажает одного из них в бумажную клетку и ставит на письменный стол, кричит на пчел через переговорную трубу — им всё нипочем; и въезжает в Селборн в почтовой карете, усадив рядом старую черепаху тетушки Снук. При всем этом он издает короткие смешки радости, полусознательные бормотания и комментарии, которые делают его не менее забавным, чем любая из описанных им птиц.
«…но их неравенство в росте — отмечает он, раздумывая о неудавшемся союзе лося и благородного оленя, — должно быть, составляло преграду любовным отношениям». «Спаривание лягушек… знакомо каждому… но я никогда не слышал и не читал о том, чтобы такое же поведение наблюдалось у жаб». «Участь этого бедного неуклюжего пресмыкающегося кажется незавидной» — сетует он, наблюдая за черепахой. И все же есть пора (обычно это начало июня), «когда он проявляет необычайную активность. В эту пору он ходит будто на цыпочках» по садовым дорожкам в поисках любви.
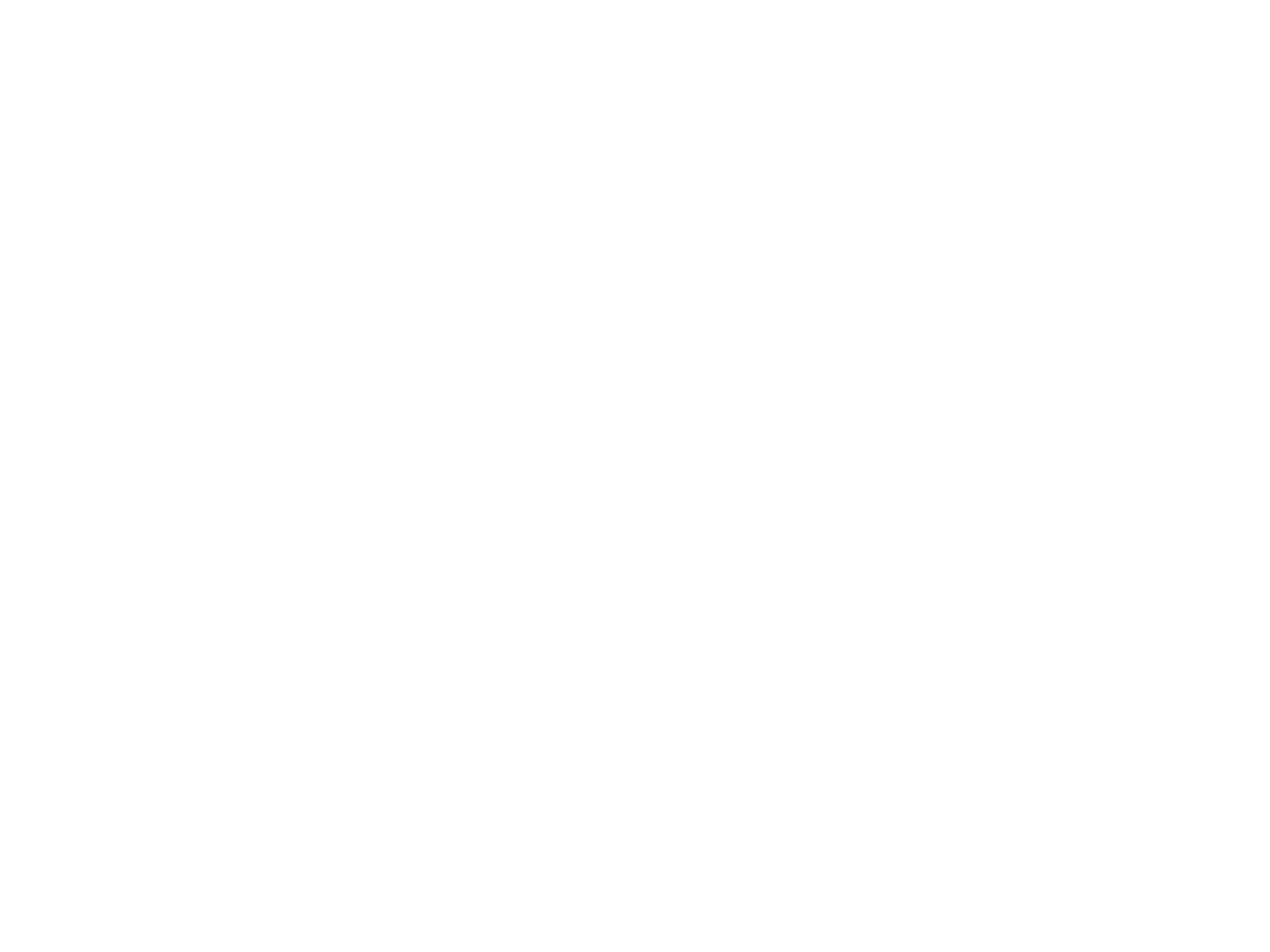
Эрик Равилиус. Иллюстрация к изданию «Сочинения Гилберта Уайта из Селборна» (1938)
И как сад викария казался черепахе тетушки Снук целым миром, так и Англия становится безмерной, если смотреть на нее глазами Гилберта Уайта. Южные холмы, по которым он из года в год ездит верхом, в его глазах превращаются в «протяженную горную гряду». Местность эта почти безлюдна. В Селборне он более одинок, чем крестьянин в отдаленнейших уголках Гебридских островов.
Это правда, что у него есть племянник в Андалусии — и он этим гордится; но среди морских офицеров у него знакомых сейчас нет. И хотя Лондон и Бат, разумеется, существуют — причем Лондон может похвастаться прекраснейшей коллекцией рогов, — слухи из этих столиц доходят слишком медленно, преодолевая пустынные края и дороги, ставшие непроезжими из-за снегов. В этом безмолвном воздухе звуки лишь усиливаются. Мы слышим стрекот сверчка; карканье грачей подобно лаю своры гончих «в редком, отзывающемся эхом лесу»; а тихим летним вечером гремит портсмутская пушка — как раз в тот миг, когда козодой заводит свою песнь. Его ум — подобно птичьему зобу, который жена фермера нашла набитым зеленью и приготовила себе на ужин, — не содержит ничего, кроме насекомых и нежных побегов растений.
Это невинное, неосознанное счастье передается не в словах, а в случайных воспоминаниях, которые всплывают сами собой. Все они — о жарких летних вечерах: в Оксфорде, во дворе колледжа Крайстчерч; по дороге из Ричмонда в Санбери, где ласточки скользят над поверхностью реки. Даже пронзительный голос полевого сверчка, для многих резкий и неприятный, рисует в его воображении «картины лета, сельской местности, зелени и отрады». В этом счастье есть непрерывность: одни и те же мысли возвращаются в одни и те же часы. «Помню, что обращал на это внимание и в прошлые годы, поскольку я, как правило, приезжаю сюда каждый год примерно в это время». Из года в год он думал о ласточках.
Это правда, что у него есть племянник в Андалусии — и он этим гордится; но среди морских офицеров у него знакомых сейчас нет. И хотя Лондон и Бат, разумеется, существуют — причем Лондон может похвастаться прекраснейшей коллекцией рогов, — слухи из этих столиц доходят слишком медленно, преодолевая пустынные края и дороги, ставшие непроезжими из-за снегов. В этом безмолвном воздухе звуки лишь усиливаются. Мы слышим стрекот сверчка; карканье грачей подобно лаю своры гончих «в редком, отзывающемся эхом лесу»; а тихим летним вечером гремит портсмутская пушка — как раз в тот миг, когда козодой заводит свою песнь. Его ум — подобно птичьему зобу, который жена фермера нашла набитым зеленью и приготовила себе на ужин, — не содержит ничего, кроме насекомых и нежных побегов растений.
Это невинное, неосознанное счастье передается не в словах, а в случайных воспоминаниях, которые всплывают сами собой. Все они — о жарких летних вечерах: в Оксфорде, во дворе колледжа Крайстчерч; по дороге из Ричмонда в Санбери, где ласточки скользят над поверхностью реки. Даже пронзительный голос полевого сверчка, для многих резкий и неприятный, рисует в его воображении «картины лета, сельской местности, зелени и отрады». В этом счастье есть непрерывность: одни и те же мысли возвращаются в одни и те же часы. «Помню, что обращал на это внимание и в прошлые годы, поскольку я, как правило, приезжаю сюда каждый год примерно в это время». Из года в год он думал о ласточках.
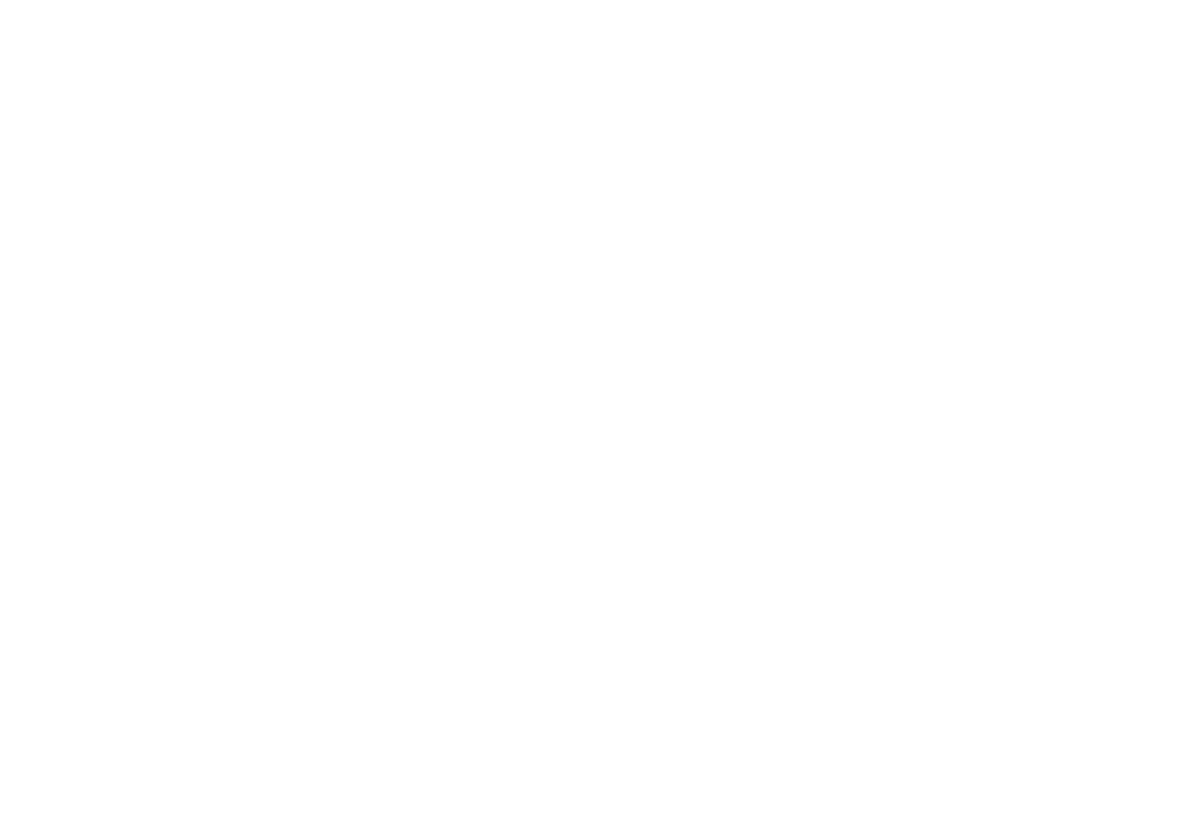
Эрик Равилиус. Иллюстрация к изданию «Сочинения Гилберта Уайта из Селборна» (1938)
Но у пейзажа, где эта птица так свободно парит, есть свои изгороди. Они сдерживают — но и защищают. Здесь присутствует то, что он так метко называет Провидением. Шпили церквей, замечает он, — «непременная составляющая изысканного пейзажа». Всюду здесь чувствуется рука Провидения — таинственного (ибо с чего бы оно даровало столь долгий век черепахе тетушки Снук?), но премудрого. Посмотрите на лягушачьи лапки: «Как премудро домостроительство Промысла образовало конечности столь низкого пресмыкающегося!» Спустя полвека Провидение утратило свою таинственность и мудрость, лишившись тени. Но в 1760-х оно было в зените; оно дарует покой, избавляя от сомнений, и тем самым дает уму волю вопрошать обо всем на свете.
Помимо Провидения, есть замки и усадьбы знати, к которым он относится почти с тем же почтением. Старые семьи — Хау, Мордонты — знают свое место и следят, чтобы бедные помнили свое. Гилберт Уайт гораздо менее снисходителен к беднякам — «Бедных у нас много», пишет он, словно это существа, не заслуживающие внимания, — чем к сверчку, которого он бережно извлекал из норы и однажды случайно раздавил.
И наконец, венчает весь этот пейзаж лавр литературы — разумеется, латинской. Классика не оставляет его мыслей; время от времени он вставляет в свой рассказ латинскую фразу, будто настраивая звучание английской речи. Знаменитое селборнское эхо точно само по себе выкликает:
Tityre, tu patulae recubans
[Титир, ты, лежа в тени…
Вергилий, «Буколики», эклога 1]
С мыслью о Виргилии Гилберт Уайт составлял и свое описание того, как женщины в Селборне мастерили лучины из ситника.
Помимо Провидения, есть замки и усадьбы знати, к которым он относится почти с тем же почтением. Старые семьи — Хау, Мордонты — знают свое место и следят, чтобы бедные помнили свое. Гилберт Уайт гораздо менее снисходителен к беднякам — «Бедных у нас много», пишет он, словно это существа, не заслуживающие внимания, — чем к сверчку, которого он бережно извлекал из норы и однажды случайно раздавил.
И наконец, венчает весь этот пейзаж лавр литературы — разумеется, латинской. Классика не оставляет его мыслей; время от времени он вставляет в свой рассказ латинскую фразу, будто настраивая звучание английской речи. Знаменитое селборнское эхо точно само по себе выкликает:
Tityre, tu patulae recubans
[Титир, ты, лежа в тени…
Вергилий, «Буколики», эклога 1]
С мыслью о Виргилии Гилберт Уайт составлял и свое описание того, как женщины в Селборне мастерили лучины из ситника.
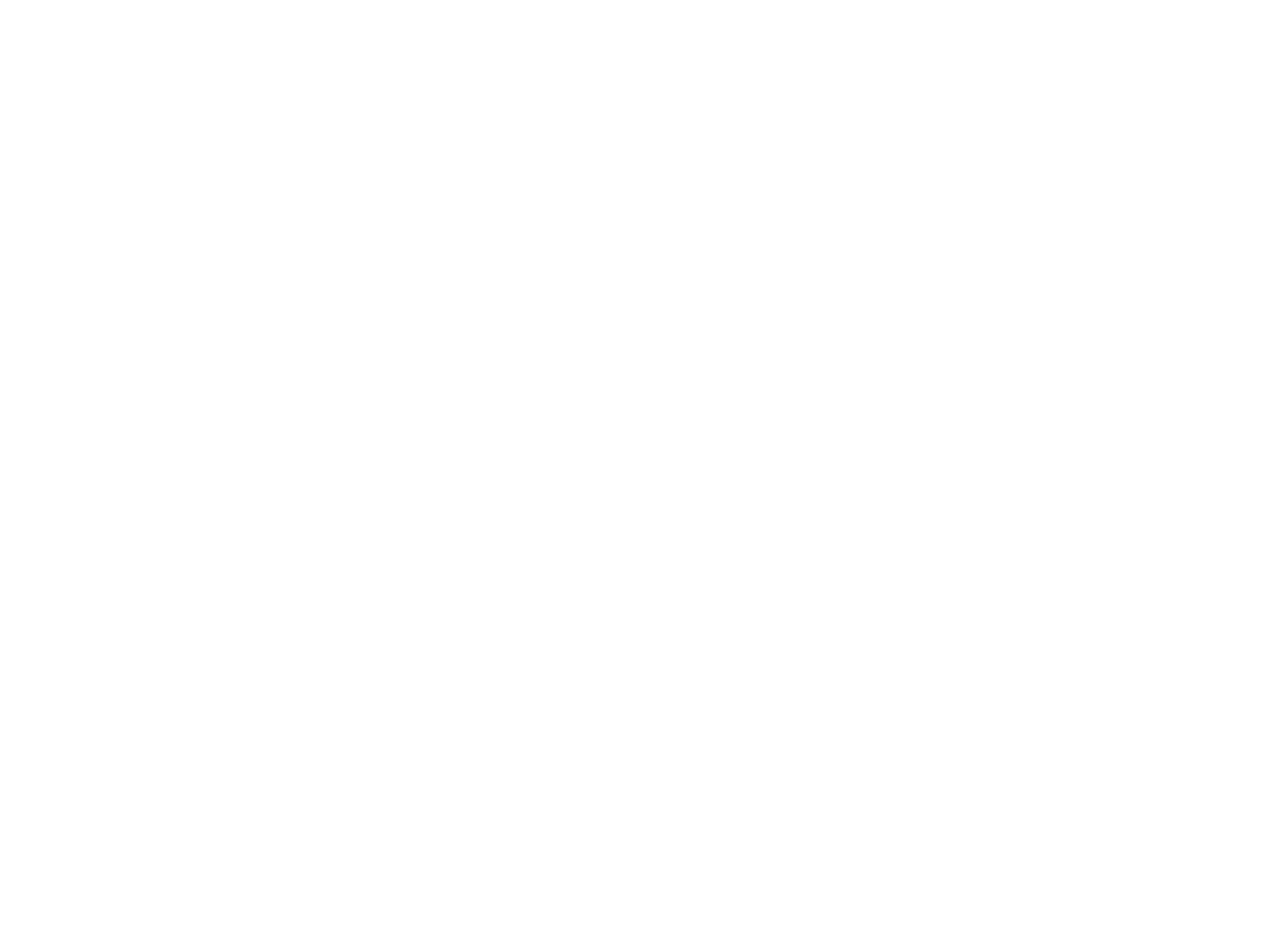
Эрик Равилиус. Иллюстрация к изданию «Сочинения Гилберта Уайта из Селборна» (1938)
И вот мы, наблюдая сквозь свои бинокли, видим этот замечательный экземпляр священника-натуралиста XVIII столетия. Но едва нам кажется, что мы дали ему определение, как он ускользает. Он берет ноту, совсем не свойственную обычному английскому священнослужителю. «Когда я слышу прекрасную музыку, отдельные ее пассажи потом преследуют меня днем и ночью, особенно при первом пробуждении, и своей назойливостью причиняют мне больше беспокойства, чем удовольствия». Почему музыка, спрашивает он, «иногда так странно воздействует на некоторых людей, вызывая воспоминания и оставаясь в сознании в течение нескольких дней после исполнения»?
В замешательстве мы ищем ответ в его жизнеописании. Но находим лишь знакомые истины: чувства его к Китти Малсо были лишены страсти; он появился на свет в Селборне в 1720 году и покинул его в 1793-м; а «дни его не знали почти никаких волнений, кроме тех, что приносила за собой смена времен года». Лишь одна деталь дополняет картину — факт отсутствия, который говорит о многом: не сохранилось ни одного его изображения. У него нет лица. И возможно, в этом причина того, что нам никак не удается его разгадать.
Его взгляд скрупулезно рассматривает насекомых в траве, но тут глаза поднимаются к горизонту, он вслушивается в звуки раннего утра. В этот момент внутреннего сосредоточения он словно вырывается из Селборна и своего века и, крылатый, в сумерках вдоль живых изгородей прилетает к нам. Священник-сова? Викарий с крыльями птицы? Гибрид того и другого? Но лучше всего себя описывает он сам: «Пустельга — пишет он, — отличается своеобразной привычкой висеть в воздухе на одном месте, беспокойно и быстро всплескивая крыльями».
В замешательстве мы ищем ответ в его жизнеописании. Но находим лишь знакомые истины: чувства его к Китти Малсо были лишены страсти; он появился на свет в Селборне в 1720 году и покинул его в 1793-м; а «дни его не знали почти никаких волнений, кроме тех, что приносила за собой смена времен года». Лишь одна деталь дополняет картину — факт отсутствия, который говорит о многом: не сохранилось ни одного его изображения. У него нет лица. И возможно, в этом причина того, что нам никак не удается его разгадать.
Его взгляд скрупулезно рассматривает насекомых в траве, но тут глаза поднимаются к горизонту, он вслушивается в звуки раннего утра. В этот момент внутреннего сосредоточения он словно вырывается из Селборна и своего века и, крылатый, в сумерках вдоль живых изгородей прилетает к нам. Священник-сова? Викарий с крыльями птицы? Гибрид того и другого? Но лучше всего себя описывает он сам: «Пустельга — пишет он, — отличается своеобразной привычкой висеть в воздухе на одном месте, беспокойно и быстро всплескивая крыльями».